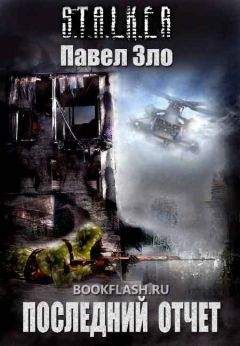«Почем капуста? Да подавитесь такими ценами! Сама дура! А ну–ка, поверните телятину! Да какая же свежая, вся потемнела! Вот врет–то, а еще задницу отъела! Мужчина, а вы куда прете! Я перед вами занимала!».
И все–таки женщина на рынке завидует. Завидует мужчине, его грубой физической силе, с которой он продирается сквозь толпу, завидует его нетерпению, с которым он проносится по рынку, подобный урагану — женщина инстинктивно противиться такой скорости в местах торговли (мужчины тяжело вздохнут, вспоминая бездарно потраченное в модных бутиках время в ожидании прекрасной половины).
Итак, женщина на рынке честна и не завидует другим женщинам. Собственно, это уже вердикт, поскольку перед нами — не женщина. Это — машина, циничная и расчетливая, жестокая и непривлекательная. Вылитая феминистка.
На наше счастье, до общества всеобщего потребления, а следовательно, до диктатуры феминизма нам еще далеко, и не факт, что с такой жизнью большинство из ныне живущих дождутся этой поистине жуткой эпохи. Но стоит уже сейчас задуматься, хотим ли мы в этом обществе оказаться.
А лучше — решать проблему феминизма уже сегодня, когда наше, кажущееся пока далеким, развитое капиталистическое будущее, похоже, предопределено.
***
Люди в церкви гудели, как рой слетевшихся на покойника мух. Отдельные слова — что–то о столовой и калачах — доносились лишь из задних рядов, тех, что теснились у входной двери, к которой прислонился, оказавшись внутри, Валентин.
Собравшиеся и в самом деле провожали покойника, вернее покойницу, гроб с которой занимал почетное место под центральным куполом церкви Святого Пантелеймона. Лицо у почившей старушки было неестественно сморщенным, словно померла она лет пять назад.
«Зачем мумию отпевать–то?», подумал Валентин и тут же звонко хлопнул себя по лбу, словно изгоняя богохульные мысли.
На хлопок укоризненно обернулись, но жужжание разговоров стихло, лишь иногда кто–то невидимый покашливал и еще — слышались сдержанные, но нетерпеливые вздохи. Людей можно было понять: батюшка работал добросовестно, и это утомляло.
Валентин застыл в дверях, не решаясь уйти, но и не понимая, зачем оставаться. Он почему–то был уверен, что в будний полдень в церкви будет пусто, но не учел, что люди умирают, не сверяясь с календарем.
— Проходите, что же вы, — женщина, которой Валентин загородил вход, подтолкнула его в спину и заодно — к решению остаться.
Да и тянуть Валентину было уже невмоготу.
— Двенадцать штук, — ткнул он пальцем в свечку и полез за деньгами.
— Заупокойную будем читать? — ласково спросила женщина в черном за прилавком, если только стол, с которого продают ритуальные принадлежности, в церкви разрешено называть прилавком, — только подождать придется — она кивнула на скорбящую толпу.
— Нет–нет, я сам, — испуганно замахал Валентин и расплатившись, сгреб свечи.
— Куда это… ставить? — остановился он, направившись было к иконе в ближайшем углу, — мне бы за здравие.
Когда цыганка ткнула его свечой в ладонь, Валентин ничего не почувствовал. Никакой боли. Что он — ребенок, что ли? Людей в средние века на кострах жгли, и ничего, терпели. Еще умудрялись умные речи толкать, да погромче, чтобы всем зевакам слышно было. Вот бы с нынешними горлопанами так — долго бы они митинговали?
Нет, Валентин даже не ойкнул. И не ударил — как можно? — наглую цыганку. Ударить женщину он не мог, не имел права: ударить ее означало обратить на себя внимание.
Проклятая незаметность! Ничем не заменимая незаметность! Так и спалиться не долго, думал Валентин. Да нет, не от свечи, конечно же! Но кто скажет, не воткнут ли ему в следующий раз шило в задницу? Те же цыганки, мать их! И будет ли Рубец — а ведь он узнает, как пить дать — потом разбираться, кто ткнул, чем ткнул, найдут ли, что вряд ли, то самое шило? Одно можно сказать точно — рисковать Рубец не рискнет, а значит — прощай, Валентин, ла реведере, визжащий на весь рынок, хватающийся за задницу воришка!
Глядя на вонзившуюся в его ладонь свечу, Касапу не издал ни звука, даже рта не раскрыл. Поэтому выступившие на его глазах слезы выглядели не вполне естественно: так подозрительно выглядит заплаканное, но совершенно не расстроенное лицо человека, если не знать, что он только что нашинковал гору лука. Нет, правда, свечой о ладонь — совсем не больно, но пусть кто–нибудь осудит человека, потерявшего последнюю надежду.
А ее–то, не больше и не меньше, Валентин и потерял. Гребаный рынок! Не то что родственной, ни одной живой души не встретишь! Озлобленные и жадные, завистливые и бездушные твари! И, главное, цыганкам–то он чем не угодил?
После Игорька Касапу зарекся закладывать провинившихся реализаторов. И кто его за язык дернул? Валентину и в кошмаре не могло привидеться, что эти безмозглые гориллы, числящиеся сотрудниками службы безопасности рынка, чуть не угрохают парня. Да и не желал он ничего такого Игорьку, бог с ним, у него вся жизнь впереди. Вернее, должна была быть впереди. А пока, в обозримом, как говорится, будущем, у Игорька впереди больницы, операции и куча дорогущих лекарств, а еще — больная безработная мать, у которой нет денег на больницы, операции и лекарства для сына, единственного, между прочим, ребенка.
— Он у матери единственный сын, между прочим, — укоризненно покосился на Валентина охранник Мишка, калечивший Игорька в числе прочих ублюдков.
Валентин втянул голову в плечи, чувствуя, что может не вынести ноши, к которой, помимо бед несчастного Игорька, добавились моральные страдания охранников. А в том, что служба безопасности страдала, Валентин после слов Мишки не сомневался.
Катись оно ко всем чертям! Торговцы, деньги, цыганки, съемная квартира в центре, охранники эти долбанные! Провалиться этому рынку вместе с директором, мысленно слал проклятия Валентин, лежа на промокшей от слез подушке — один, в пустой, окутанной вечерним сумраком квартире.
Лишь бы не видеть их всех. Не слышать. Не говорить с ними, хотя это, последнее пожелание давно исполнилось.
На следующее утро исполнилось и первое.
Проснувшись, Валентин по привычке протер глаза, но увидел не то, что ожидал. Этим не тем была сплошная пелена — белая, как если бы на глаза повязали салфетку, и Валентин даже усомнился — а жив ли он? Вспомнились рассказы очевидцев — их в последнее время часто передавали по телевизору — переживших клиническую смерть. Люди рассказывали о длинном коридоре с белым светом в конце. Свет бил им в глаза, слепил, поэтому стены коридора никто толком описать не мог. Отчего же они решили, что это был коридор, недоумевал каждый раз Валентин.
«Что смерть всего лишь клиническая — это, конечно, хорошо, но вот кто меня будет вытаскивать?», запаниковал Касапу, представив, как над забинтованной головой Игорька склоняется врач, проводящий утренний осмотр.
Пошарив рукой, Валентин узнал по очертаниям родной диван и решил присесть. Пощупав лицо и убедившись, что на глазах посторонних предметов действительно нет, и что глаза открыты, он снова лег и начал вспоминать.
Однажды в передаче «Здоровье» рассказывали, что инфаркт не случается внезапно, хотя большинство инфарктников уверены в обратном.
«Вспомните», ласково уговаривала ведущая участников передачи, «наверняка бывало, что вам не хватало воздуха, или отнималась левая рука. Это и был своего рода желтый предупреждающий сигнал, включенный светофором вашего организма и если бы вы…»
Черт, что же там было? Словно пыльные страницы семейного альбома, перебирал Валентин события прошлого, надеясь отыскать хоть что–то похожее на симптомы расстройства зрения и — надо же! — ничего не мог обнаружить. Да он и об очках–то никогда не думал, и это в свои семьдесят пять! Он вообще не мог вспомнить, болел ли когда–нибудь серьезно. Разве что кашель в тюрьме — даже туберкулез ставили, так ведь для зэков это вроде близорукости для библиотекарей: и болезнью не считается. А так — разве что в детстве и, кажется грыжа (он попытался нащупать шов, но ничего не нашел — должно быть, зарос).
Точно, грыжа, и вроде бы, даже перетонит был. Видимо, еле выходили, решил Валентин, вспомнив печальное лицо матери. Ее влажные от слез глаза Касапу ясно видел даже сейчас, и это было единственное, что он видел. Мать почему–то он запомнил именно такой — плачущей. Рыдания она всегда прятала, зарывшись головой в подушку. Горевала ли мать из–за мужа — отца Валентина, кто теперь ответит? Да и был ли он мужем, был ли Валентину отцом? Ясно одно: страдала мать из–за мужика, этого неизвестного, то ли мужа, то ли отца, которого Валентин никогда не видел, во всяком случае, не запомнил. Помнится, бабка Евдокия, тетушка матери, обнимала ее, содрогавшуюся в рыданиях, за плечи и ласково уговаривала: «Поставь за него свечку! Только огнем вниз — сама увидишь, ссохнется не по дням, а по часам».
![Сергей Дигол - Старость шакала[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)